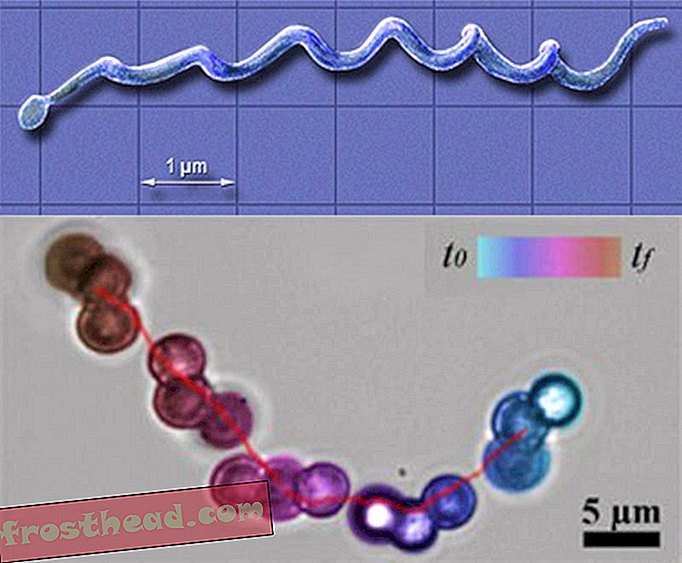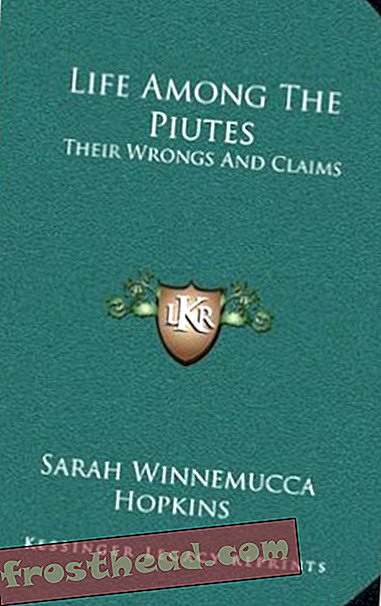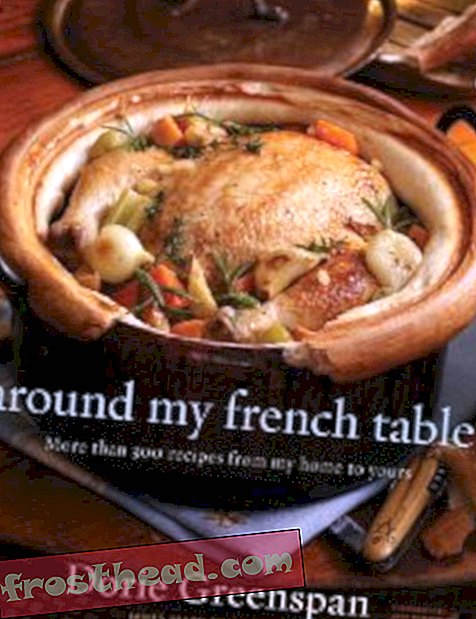Мой отец, книжный темнокожий мужчина, достаточно взрослый, чтобы быть моим дедушкой, вырос в Техасе, пока он был еще отдельным государством. Как только он смог, он ушел оттуда достаточно далеко, чтобы покрыть стены своего кабинета фотографиями своих путешествий в такие экзотические места, как Польша и Мали. Насколько я помню, он настаивал на том, что единственное место в мире, которое действительно стоит посетить, это Париж. Будучи ребенком, я принял утверждение за чистую монету - в основном из-за того, как его глаза загорелись, когда он говорил об этом городе, который был для меня всего лишь двумя слогами - я предположил, что он, должно быть, жил там однажды или был очень близок с кем-то который имел. Но оказалось, что это не так. Позже, когда я был старше, и когда он заканчивал преподавать в течение дня, он часто надевал свободную серую толстовку Université de Paris Sorbonne с темно-синими надписями, подарок от его самого дорогого ученика, который учился там за границей. От моего отца я вырос с ощущением, что столица Франции - это не столько физическое место, сколько бодрящая идея, которая стоит за многими вещами, не в последнюю очередь это были чудо, изощренность и даже свобода. «Сынок, тебе нужно ехать в Париж», - говорил он мне из ниоткуда, при мысли об этом поднималась улыбка, и я закатывал глаза, потому что у меня тогда были собственные чаяния, которые редко выходили за пределы нашего. маленький городок Нью-Джерси. «Вот увидишь», - говорил он и хихикал.

Эта статья является подборкой из нашего нового Смитсоновского журнала Travel Quarterly
купитьИ он был прав. Моя жена, парижанка второго поколения из Монпарнаса, и я переехали из Бруклина в пологий район в 9 округе, чуть ниже неонового света Пигаль, в 2011 году. Я уже второй раз жил во Франции, и к тому времени я был полностью осознавая тягу, которую этот город проявлял на протяжении многих лет, не только для моего отца, но и для сердец и умов многих чернокожих американцев. Одним из первых вещей, которые я заметил в нашей квартире, было то, что из восточной гостиной, если бы я распахнул окна и уставился на площадь Густава Тудуза, я увидел 3 улицу Клаузель, где Чез Хейнс, ресторан для души и до недавнего времени в старейшем американском ресторане в Париже подавались креветки из Нового Орлеана, жирная и зеленая капуста для шести десятилетий ярких посетителей, чернокожих эмигрантов и любопытных местных жителей. Меня переполняет ностальгическая боль, когда я представляю, что не так давно, если бы я прищурился достаточно сильно, я бы заметил Луи Армстронга, графа Бэйси или даже молодого Джеймса Болдуина - возможно, с рукописью «Другая страна» под мышкой. - проскользнув через нечетную внешность бревенчатой хижины Хейнса, чтобы укрепить себя знакомой болтовней и вкусом дома.
Во многих отношениях траектория движения Чез Хейнс, которая окончательно закрылась в 2009 году, отражает самый известный рассказ о традициях черного экспата в Париже. Это начинается во Второй мировой войне, когда Лерой «Рафхаус» Хейнс, обвязчивый человек из «Морхауса» и бывший футболист, как и многие афроамериканцы, изначально находившиеся в Германии, после того, как сражение завершилось, пробился в Город Огней. Здесь он обрел свободу любить того, кого хотел, и женился на француженке по имени Габриель Лекарбоннье. В 1949 году они открыли Габби и Хейнс на улице Мануэль. Хотя позже он скажет журналистам, что «болтовня и еда для души» были непростым делом для французов, ресторан сразу же процветал благодаря бизнесу коллег-чернокожих солдат, бродящих по барам и клубам Монмартра и Пигаль - ранних последователей, чье присутствие привлекло писателей., джазмены и вешалки. После расставания с Габриель трижды женившийся Хейнс провел еще одну поездку в Германии, прежде чем вернуться в Париж и открыть свое одноименное сольное предприятие, прямо через улицу Мучеников, на месте бывшего борделя. Центральность этого нового заведения для черных демонов эпохи можно выразить одним ярким изображением: оригинальным портретом Джеймса Болдуина из Beauford Delaney, который Хейнс случайно повесил над дверью кухни.
К тому времени, когда Леруа Хейнс умер в 1986 году, легендарная послевоенная черная культура, которую его ресторан на протяжении десятилетий воплощал и концентрировал - подобно значимости самой джазовой музыки в черной жизни - в значительной степени исчезла. Большинство ГУ давно ушли домой, где законодательство о гражданских правах существовало уже почти поколение. И уже не было ясно, в какой степени даже художники по-прежнему смотрели на Европу в манере автора «Родного сына» Ричарда Райта, который, как известно, сказал в 1946 году интервьюерам, что он «чувствовал больше свободы в одном квадратном квартале Парижа, чем там. находится во всех Соединенных Штатах Америки ». Несмотря на то, что португальская вдова Хейнса Мария Дос Сантос продолжала работу ресторана - еще около 23 лет, добавив в меню бразильские специи, - он действовал больше как мавзолей, чем как любая жизненно важная часть ресторана. современный город. Что я напоминаю себе сейчас, когда я толкаю коляску моей дочери мимо выдолбленной раковины на 3-й улице Клаузель, предлагая молчаливое приветствие призракам предыдущего поколения, так это то, что даже если бы я прибыл сюда раньше, магия уже давно с тех пор как исчез.
Или это было? Несколько лет назад в доме молодого французского торговца, которого я знал в Нью-Йорке, который переехал в Париж и выработал привычку устраивать большие обеды с участием полиглота с гостями со всего мира, я встретил уважаемого черного человека эпохи Возрождения. Сол Уильямс, поэт, певец и актер значительных талантов. Когда мы поговорили о красном вине и голосе Билли Холидей на заднем фоне, мне пришло в голову, что Уильямс, который в то время жил со своей дочерью в просторной квартире возле Гар дю Нор, записывал новую музыку и играл по-французски кино - на самом деле было настоящей статьей, современной Джозефин Бейкер или Лэнгстон Хьюз. Меня также поразила мысль, что, по крайней мере в тот вечер, я был его свидетелем и, следовательно, частью какой-то еще существующей традиции. Это был первый раз, когда я видел свою жизнь в Париже в таких терминах.
 Жозефина Бейкер выступает для британских войск в отпуске в Париже (1 мая 1940 года). (Hulton-Deutsch Collection / Corbis)
Жозефина Бейкер выступает для британских войск в отпуске в Париже (1 мая 1940 года). (Hulton-Deutsch Collection / Corbis) Через некоторое время после этого Саул вернулся в Нью-Йорк, и я продолжил трудиться над романом, который я привез с собой из Бруклина, - одиночной работой, которая не дает повода смешаться, - но мысль застряла. Был ли Париж каким-то значимым образом столицей чёрного американского воображения? Это вопрос, который я недавно задал, чтобы попытаться ответить. В конце концов, хотя во время и после двух мировых войн здесь произошел необычный взрыв чернокожих, афро-американский роман с Парижем уходит корнями еще дальше. Все начинается в переднем Луизиане, где члены элиты мулатов - часто богатых земель и даже рабовладельцев, которые подвергались дискриминации по южному обычаю - начали отправлять своих свободных франкоговорящих сыновей во Францию, чтобы закончить обучение и жить в социально равных условиях., Как это ни странно, эта модель продолжается вплоть до сегодняшнего дня с полуд экспатриацией рэпера суперзвезды Канье Уэста, который заложил здесь нечто большее, чем просто корни международного богатого человека, творчески процветал и добился серьезных успехов в местном музыкальная и модная индустрии. (Именно к неразделенной любви Запада ко всем вещам Галлика мы можем приписать сюрреалистическое видение рекламного ролика рекламного ролика кандидата в президенты Франсуа Олланда «Ниггеры в Париже» Уэста и обильно резкого гимна Джея З.)
Конечно, такая прочная, многовековая традиция все еще должна проявляться во многих банальных способах, которые я просто не замечал. Фактически, я знал, что это правда, когда несколькими месяцами ранее я подружился с Майком Лэддом, 44-летним артистом хип-хопа из Бостона через Бронкс, который также оказался моим соседом. Как и я, Лэдд имеет наследие смешанной расы, но самоопределяется как черный; он также женат на парижанине и часто неправильно воспринимается во Франции, его поразительные голубые глаза заставляют людей принять его за бербера. Разговаривая с Майком, а затем с моим другом Джоэлем Дрейфуссом, бывшим гаитянско-американским бывшим редактором The Root, который делит время между Нью-Йорком и квартирой в 17-м округе, я объяснил, что я ищу сегодняшнюю черную сцену, какой бы она ни была. Оба мужчины сразу указали мне в сторону романиста и драматурга Джейка Ламара, выпускника Гарварда, который живет здесь с 1992 года.
Из-за пинты Леффа в отеле Amour, улье модной социальной активности всего в одном квартале от старого Chez Haynes (а также, по общему мнению, в бывшем борделе), Джейк, носящий очки и обезоруживающе дружелюбный, объясняет, что он первый приехал в Париж молодым писателем на стипендию Линдхерста (предшественник гранта Макартура «Гений») и остался, как и почти все, кого вы встречаете в этом городе из-за границы, из любви. Он и его жена Дорли, швейцарский театральный актер, вместе приехали домой на дальнюю сторону Монмартра. Хотя его приезд в Париж явно не был выбором против Соединенных Штатов, как у Райта и Болдуина, «я был счастлив выбраться из Америки», - признает он. «Я был зол на Родни Кинга, а также на мелочи: это облегчение, чтобы попасть в лифт, и никто не сжимает ее кошелек!»
Есть ли в Париже добросовестная черная община? Я спросил его. «90-е годы были моментом общности, - объясняет он, - но многое из старого поколения прошло». Больше нет, например, таких, как Танни Стовалл, преуспевающий физик, чьи обеды в «первую пятницу» потому что «братья», вдохновленные духом «Марша Миллиона человек», стали обрядом для множества афроамериканцев, проходящих через или переезжающих в Париж. Но поколение чернокожих эмигрантов Джейка - мужчины, которым сейчас по большей части 50-60 лет, многие из которых впервые познакомились друг с другом в квартире Стовалла много лет назад, - продолжает традицию как можно лучше.
Через неделю после встречи с ним я вместе с Джейком отправляюсь на следующую импровизированную встречу группы, обед, проводимый в большом по парижскому мансарде по адресу rezde-chaussée loft на улице Фобур Сен-Дени. Ведущий, уроженец Чикаго по имени Норман Пауэлл с подлинным звонком, разослал электронное приглашение, которое, похоже, подтверждает оценку Джейка: «Привет, мои братья… Наши пятничные встречи ушли в прошлое. Конечно, никто не может принять их так, как Танни, но я за то, что пытаюсь собраться вместе пару раз в год ». Когда я приезжаю, меня радушно встречают и говорят, что я только что скучал по автору и Кэлу Профессор Беркли Тайлер Стовалл (никакого отношения к Тэнни), а также Рэнди Гарретт, человек, чье имя, кажется, вызывает улыбку на лице каждого, когда упоминается. Я быстро понял, что Гарретт - шутник группы. Родом из Сиэтла, он, как мне сказали, когда-то владел и управлял сенсационным реберным соединением на левом берегу, недалеко от улицы Муффетард, и теперь обходит себя как бриколер (разнорабочий) и своим умом. В гостиной по-прежнему пьют вино молодой певец, недавно приехавший в Европу, чье имя я не уловил, давний эмигрант по имени Зак Миллер из Акрона, штат Огайо, который женат на француженке и руководит собственной компанией по производству медиа, и Ричард Аллен элегантный гарлемит почти 70 лет с безупречно расчесанными серебряными волосами. Аллен, который признается, что его роман с французским языком начался как личный бунт против испанцев, которых он всю жизнь слышал в жилой части города, имеет при себе небольшую камеру типа «наведи и снимай» и иногда снимает фотографии группы. Он находится в Париже с 1972 года, работая, помимо прочего, фотографом моды в Kenzo, Givenchy и Dior.
 Рэпер суперзвезды Канье Уэст, которого можно увидеть здесь на показе мод Givenchy, заложил в Париже нечто большее, чем просто корни международных богатых людей. (KCS Presse / Splash News / Corbis)
Рэпер суперзвезды Канье Уэст, которого можно увидеть здесь на показе мод Givenchy, заложил в Париже нечто большее, чем просто корни международных богатых людей. (KCS Presse / Splash News / Corbis) Вскоре мы все переехали на кухню, где, хотя время ужина прошло, Норм любезно подает нам, опоздавшим, щедрые порции чили и риса, облитые горячим соусом и обсыпанные Конте вместо чеддера. Разговор переходит от введения к протестам, которые бушуют по всей Америке вслед за Фергюсоном и Стейтен-Айлендом, и мы мгновенно неистово обсуждаем бесконечный поток обвинений, разоряющих наследство Билла Косби. Затем, по касательной, Норм вспоминает тот факт, что он недавно открыл WorldStarHipHop.com, и описывает нелепый веб-сайт в этой комнате, полной экспатов. «Теперь дело в том, чтобы снять вирусное видео о том, что вы просто ведете себя как дурак», - объясняет он. «Вы просто должны кричать« WorldStar! » в камеру ». Большинство парней так долго были за пределами США, что не знают, о чем он говорит. Я описываю печально известное видео, которое я недавно встречал о том, как подростки из Хьюстона стоят в очереди в торговом центре за последним переизданием Air Jordan, и внезапно осознаю, что я плачу слезами смеха - смеясь таким образом, это происходит со мной тогда, я не совсем испытал в Париже раньше.
Тэнни Стовалл ушла, но если сегодня существует центростремительный чёрный парижанин, то это различие должно быть у Ламара, современного, хорошо приспособленного Честер Хаймса. Как и Хаймс, Джейк обладает большим разнообразием литературных форм, от мемуаров до художественной литературы, а совсем недавно - криминального романа «Постерите», который, как и собственные полицейские Хаймса, был впервые опубликован на французском языке. Но в отличие от Хаймса, чья деятельность во Франции вместе с Болдуином и Райтом Ламаром недавно была инсценирована для сцены в страшной пьесе «Братья в изгнании», Ламар свободно говорит на этом языке. «В этом отношении я более интегрирован во французскую жизнь, чем он», - поясняет он по электронной почте. И это правда: Джейк - часть ткани этого города. Кажется, он знает всех. По его предложению я нахожусь в одной остановке метро в пригороде Баньоле. Я здесь, чтобы встретиться с Камиллой Рич, бывшей моделью агентства Next и выпускницей Брауна, которая живет в красивом, выкрашенном в черный цвет доме со своими тремя детьми от афроамериканского модельера Эрла Пикенса. У меня такое чувство, что меня перенесли в адаптацию «Королевского Тененбаума». Дети Камиллы, Кассий, 12 лет, Каин, 17 лет, и Калин, 21 год, сразу же обнаруживают себя необычайно одаренными, эксцентричными и самонаправленными. Пока Калин раскладывает бокал тарт-о-цукини, супа и яичницы-болтуньи, я узнаю, что Кассий, чревовещатель-самоучка, в дополнение к тому, что он является президентом своей школы и говорит на двух языках на французском и английском языках, для развлечения подбирает немецкий и арабский языки, Тем временем Каин, чья цель - стать аниматором в Pixar, в своей спальне рисует замысловатый холст. Он тепло улыбается мне, извиняясь за то, что так отвлекся, а затем продолжает работать. Кэлин, со своей стороны, будучи не только поваром, но и программистом-любителем, является высококвалифицированным и уже опубликованным иллюстратором с кривым и тонким чувством юмора.
После обеда я присоединяюсь к Камилле у камина и смотрю, как «Роксанд», 14-летняя черепаха из Западной Африки, вешает на пол свой доисторический панцирь. Она зажигает сигарету и надевает «Бутылку» Джила Скотта-Херона, объясняя, что Париж всегда занимал значительное место в мифологии семьи. Ее отец - математик из Темплского университета - и дядя пришли в армию и продолжали играть джаз и карикатуру в Пигаль. Камилла, высокая и красивая в очках и афро, выросла в Филадельфии, где наряду со своими более стандартными черными корнями она прослеживает свое происхождение от креольских мелунов Аппалачей. «Я всегда была так занята с детьми, - объясняет она, когда я спрашиваю об общине здесь, - что у меня никогда не было времени на что-то еще». Но, насколько ей известно, нет других полностью афро-американских семей, таких как ее с родными детьми, все еще живущими в Париже. Это был опыт свободы, который она чувствует, что ее дети не могли иметь в Соединенных Штатах. «В современной Америке ни один ребенок не может расти без идеи расы как основы своей идентичности», - говорит она, в то время как в Париже часто создается впечатление, что они пощадили эту смирительную рубашку.
Конечно, подтекст этого разговора, о котором мы оба должны знать, также является одной из великих ироний жизни во Франции чернокожего американца: это традиционное распространение человеческого достоинства на чернокожих экспатриантов не является функцией некоторой магической справедливости. и отсутствие расизма, присущего французскому народу. Скорее, это происходит в значительной степени из-за взаимосвязанных фактов общего французского антиамериканизма, который часто выступает в качестве противоположного рефлекса, чтобы показать нос грубым бело-американским нормам, наряду с тенденцией встречаться с американскими черными в отличие от их Африканские и карибские коллеги - прежде всего американцы, а не чернокожие. Это, конечно, может создать свои собственные проблемы для психики (как подтверждают сокрушительные очерки Джеймса Болдуина), ставя афроамериканца в Париже в странное новое положение, свидетельствующее - и избегающее - систематического плохого обращения с другими низшими кастами в городе.
Кроме того, никогда не повредит тому, что чернокожие американцы, найденные в Париже на протяжении многих лет, как правило, были творческими типами, естественными союзниками искушенных, любящих искусство французов. Джейк Ламар сказал мне это наилучшим образом: «Есть много причин, по которым, - сказал он, - но большая причина - это уважение французов к художникам в целом и писателям в частности. В Америке люди действительно заботятся только о богатых и знаменитых писателях, тогда как во Франции не имеет значения, являетесь ли вы автором бестселлеров или нет. Признание писать само по себе уважается ». И поэтому именно это почтение по умолчанию, в свою очередь распространяющееся на ГИ и других, которые слоняются без дела, увлекаются джазом или готовят пищу для души, - во многом помогло изолировать американских негров от суровые социально-политические реалии, с которыми сталкиваются большинство групп иммигрантов. Но ничего из этого я не скажу Камилле и ее замечательным детям в тот вечер. Перед отъездом я говорю им правду: они вдохновляют меня хотеть иметь больше детей и воспитывать их здесь, во Франции.
Прямо перед Рождеством я встречаюсь с Майком Лэддом, артистом хип-хопа, который живет от меня по улице. Мы собираемся увидеть известный американский рэп-костюм Run The Jewels, выступивший в La REcyclerie, заброшенном железнодорожном вокзале, где находятся рабочие места в преимущественно африканском и арабском окраинах 18-го округа. Майк давно дружит с El-P, белой половинкой Run The Jewels, и мы идем за кулисы, чтобы найти дуэт, едящий Pringles со вкусом паприки и пьющий Серого гуся и газированные напитки перед шоу. Я немедленно вступаю в разговор с партнером El-P, Killer Mike, физически гигантским человеком и лириком с воинственным сознанием из Атланты, который когда-то посещал чтение моей книги в публичной библиотеке Decatur (и активно обсуждал меня с аудиторией), но кто может или может не помнить, что сделал это. В любом случае, мы не можем не говорить об Эрике Гарнере, человеке из Стейтен-Айленда, которого задушил на камеру сотрудник полиции Нью-Йорка, которого только что очистили от всех проступков. «Наша жизнь в Америке не очень важна», - замечает Киллер Майк с грустью в голосе, которая удивляет меня.
Спектакль в ту ночь наполнен настроением праведного протеста. Парижская толпа набухает и, кажется, готова идти и плыть до самого Фергюсона, штат Миссури, к концу. Мы с Майком Лэддом задерживаемся, и в баре к ним присоединяются еще несколько чернокожих эмигрантов, в том числе Морис Сайид Грин, жизнерадостный рэпер, ранее входивший в консорциум Antipop Group. Я спрашиваю Лэдда, находит ли он Париж рай для чернокожих. «Я чувствую, что Франция, а остальная часть континентальной Европы тем более отстает в понимании разнообразия», - искренне отвечает он. «Они были очень хороши в праздновании различий в небольших количествах - горстка чернокожих американских эмигрантов, небольшая колониальная колония - но, как сейчас широко распространено, Франции трудно понять, как интегрировать другие культуры в свои».
Для Сайида, темнокожего мужчины размером 6 футов четыре дюйма и 44 лет, который проводит 17 с половиной часов в неделю на интенсивных уроках французского языка, предоставляемых правительством, предполагаемый преференциальный режим, зарезервированный для американских негров, иногда оказывался недостижимым. «У меня только что был мой маленький мальчик», - рассказывает он мне о том времени, когда группа французских полицейских напала на него и обвинила его в попытке проникнуть в его собственную машину. «Ему было три дня, а я с женой лежал в больнице. Я припарковал свою машину и в итоге запер ключи внутри. Я был со своей свекровью, которая на самом деле белая француженка, и пыталась вытащить их. Время шло, белый парень из соседства пришел и помог мне, и начало темнеть. Парень ушел, а я все еще был там. Подкатился полицейский, и вдруг на мотоциклах появилось еще шесть полицейских. Они не верили, что моя теща была тем, кем я сказал, что она была. Она пыталась поговорить с ними. Наконец они приняли мое удостоверение личности и сдали, но моя свекровь сказала: «Ого!» Ее первой реакцией было просто подчиниться, но затем ее вторая реакция была такой: «Подожди, почему это происходит?»
Париж - рай для афроамериканцев или нет? Это действительно когда-либо было? «Париж нашего поколения - это не Париж; Это Мумбаи, это Лагос, это Сан-Паулу », - говорит Лэдд. Это одна из причин, по которой он держит студию звукозаписи в Сен-Дени, северном бане, популярность которого, в отличие от центра Парижа, напоминает ему, почему в свои нью-йоркские дни он предпочитал Бронкс Манхэттену. Он утверждает, что Париж стал настолько привлекательным для художников всех типов в начале и середине 20-го века, как столкновение старых традиций с тем, что было поистине авангардным мышлением. «Это наэлектризованное раздор происходит сейчас в других городах», - подчеркивает он. Это то, о чем я также подозревал во время своих путешествий, хотя я больше не уверен, что это правда. Я не уверен, что навязчивые разногласия, о которых мы выросли, ушли из Парижа или чувствуются только сейчас, потому что везде все больше и больше. Интернет, дешевые перелеты, глобализация американской черной культуры через телевидение, спорт и хип-хоп, в которой африканцы и арабы, рожденные в Париже, одеваются, как крысы из Нью-Джерси, - где бы они ни находились, - правда, осталось мало секретов для любого из нас. Когда я задаю тот же вопрос Сайиду, он становится философским: «На самом деле вы можете быть только в одном месте за один раз», - говорит он. «Если я сделаю 20 отжиманий в Нью-Йорке или 20 отжиманий здесь, это те же 20 отжиманий».
Через неделю после резни в Чарли Хебдо, которая уничтожила ложное чувство безмятежности и этнического сосуществования в этом городе, Джейк Ламар организовал выезд братьев. Известный афроамериканский писатель и франкофил Та-Нехиси Коутс в Американской библиотеке выступает с докладом на тему «Дело о репарациях» - своей весьма влиятельной историей на обложке журнала Atlantic. Ричард Аллен, острый эмигрант с камерой, и я опаздываю после напитка в ближайшем кафе. Мы поднимаем стулья сзади и видим Коутса в середине лекции в полном, преимущественно белом доме. В Q & A, пожилой белый человек спрашивает, сталкивался ли в Париже Коутс с расизмом. Коутс колеблется, прежде чем признать, что да, на самом деле однажды белая женщина подошла к нему, крича: «Quelle horreur, un nègre!», А затем бросила в него грязную салфетку. Похоже, никто из присутствующих, в первую очередь человек, который задал вопрос, не знает, что сказать на это, и Коутс услужливо рассказывает о столкновении с очевидным безумием этой конкретной женщины, а не с работой всего французского общества.
(Позже по электронной почте я спрашиваю его, считает ли он себя частью черной традиции здесь. Он говорит мне, что хотя он сознательно стремился избежать смешения с другими черными писателями в Париже: «Я не совсем уверен, почему я даже Я люблю Болдуина. ОБОЖАЮ Болдуина ... [но] он чувствует себя клаустрофобным, как будто у тебя нет места быть самим собой ... Все это говорит о том, что мне кажется слишком большим, чтобы списать опыт черного экспатрианта здесь как просто совпадение.)
Когда Ричард и я собираемся с другими братьями и их женами, которые сейчас готовятся к отъезду, Джейк приглашает Коутса выпить с нами, но он вежливо проверяет дождь. Мы выходим из библиотеки на влажную улицу Генерал Каму, в конце концов переправляемся обратно на Правый берег через Пон-де-л'Альма, Эйфелева башня светится оранжевым над нашими головами, Сена быстро течет под нашими ногами. Город чувствует себя странно, как обычно, за исключением случайного присутствия полицейских с автоматами и военного персонала и черно-белых плакатов «Je Suis Charlie», прикрепленных к окнам всех кафе. Наша группа состоит из Джейка и Дорли; Джоэл Дрейфусс и его жена Вероника, потрясающая женщина с кокосовым комплексом с голубыми глазами, из Сент-Луиса; Рэнди Гарретт, raconteur-bricoleur; режиссер Зак Миллер; Ричард Аллен; и бодрый английский профессор из Колумбии по имени Боб О'Мелли. Заходим в большой стол в кафе на авеню Георга V и заказываем раунд напитков. Я сразу же понял, что делает Рэнди таким веселым, когда он в мгновение ока купил дорогие розы Дорли и Вероники у бангладешского торговца цветами, торгующего цветами к столу.
Все, кажется, в очень хорошем настроении, и я на мгновение чувствую, что я на самом деле в другой эпохе. Наши напитки прибывают. Мы провозглашаем тост, и я спрашиваю Ричарда, существует ли на самом деле такая вещь, как черный Париж. «Время от времени», он пожимает плечами, делая глоток вина. «Все зависит от того, кто здесь и когда». Прямо сейчас, Боб О'Мили здесь, и стол для этого полнее. Он организовал выставку картин и коллажей Ромара Бирдена в Рейд Холл, аванпосте Колумбийского университета недалеко от Монпарнаса. Я говорю ему, что очень рад это видеть, и, может быть, из-за того, что эти пожилые люди так сильно напоминают мне его, мои мысли обернулись к моему отцу.
Одна из величайших загадок моего детства заключалась в том, что когда он наконец-то получил шанс приехать сюда в начале 90-х, после двухнедельного избиения тротуара и просмотра всего, что мог, мой отец вернулся домой, как будто ничего не имел получилось. Я ждал и ждал, чтобы он наполнил меня историями об этом волшебном городе, но был встречен только молчанием. На самом деле, я не думаю, что он когда-либо снова говорил эйфорически о Париже. Я всегда подозревал, что это как-то связано с тем, что в самых страшных фильмах зрители никогда не должны смотреть прямо на монстра. В любом случае реальность, какой бы великой она ни была, может раствориться только перед богатством нашего собственного воображения - и до знаний, которые мы несем в себе.