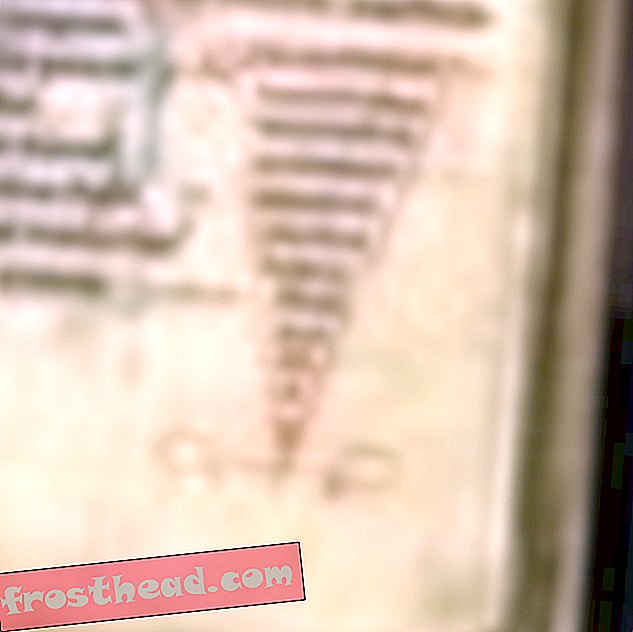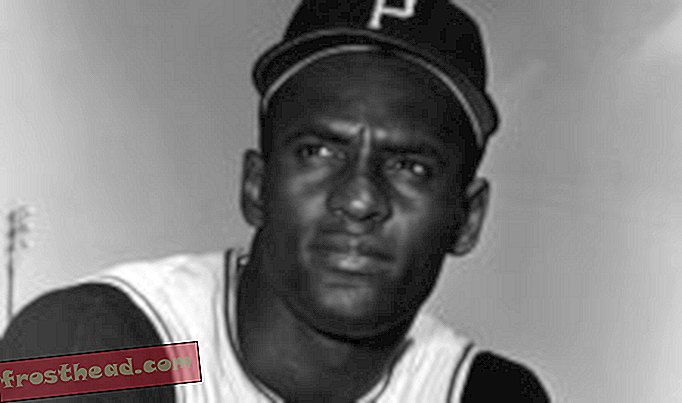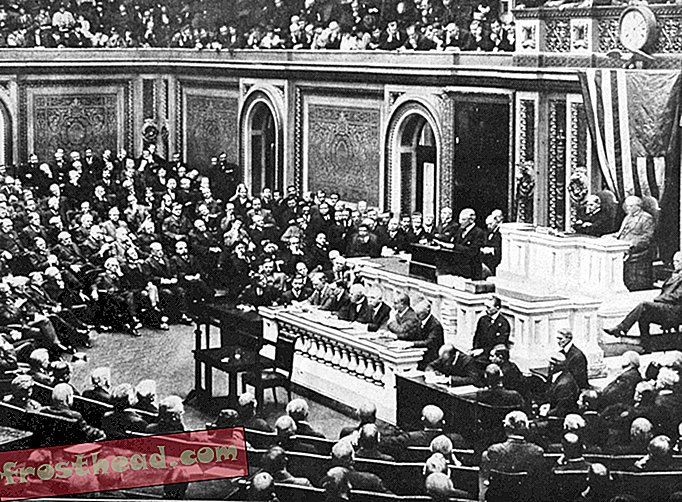Литтон Стрейчи решил, что у Томаса Арнольда короткие ноги. Арнольд - директор по регби, отец Мэтью Арнольда, образец мужественной христианской прямоты 19-го века и один из подданных выдающихся викторианцев Стрейчи - имел совершенно нормальные ноги.
Связанный контент
- Изменяющееся определение афроамериканца
Но Стрейчи в своих хитрых целях изобрел неизгладимую деталь: «Внешность [Арнольда] была признаком его внутреннего характера: все в нем означало энергию, серьезность и лучшие намерения. Возможно, его ноги были короче, чем они должны были быть» Был." (Прикосновение к Стрэчи должно вызывать восхищение в псевдо-неуверенном «возможно» и «должно». Это добавило что-то к шутке, что Стрейчи был высоким, резко неловким человеком, построенным по типу папских длинных ног.)
Другие писатели - например, Диккенс, Уайлд, Шоу - напали на здание викторианской эпохи, не причинив большого урона. Но Стрейчи был изящно разрушительным карикатуристом, и его время было так же хорошо, как его инстинкт к деталям. Выдающиеся викторианцы появились весной 1918 года. После четырех лет Великой войны и убийства значительной части поколения молодых людей Европы, до сих пор внушительных фигур предшественника (другими подданными Стрейчи были Флоренс Найтингейл, генерал Чарльз, «китаец»). Гордон и кардинал Мэннинг казались изможденными, измотанными. Так же, как и Британская империя. Книга Стрэчи стала одним из классических произведений 20-го века литературного разрушения, ловкого и восхитительно несправедливого, воплощение трещины покойного обозревателя Мюррея Кемптона о тех, кто спускается с холмов после того, как битва заканчивается, чтобы застрелить раненых.
Переход от одного века к другому привносит изменения в объективы, благодаря которым люди видят историю, которая только что прошла, и свое место в истории, которая сейчас разворачивается. Вселенная власть имущих насмехается над теми, кто не находится у власти - по крайней мере, пока - как, скажем, телевизионные сатирики Джон Стюарт и Стивен Кольбер издевались над администрацией Джорджа Буша.
Но власть меняет руки. Что тогда? Какой объектив использует разум в новом устроении?
Я думаю о таких вопросах, как 21-й век пытается разобраться - экономически, политически, экологически - и организовать свои перспективы по мере того, как он вступает в новую эпоху. Нам нужно иметь контекст, чтобы представить себя. Какова наша повествовательная линия?
Экклезиаст говорит, что «время разрушаться, а время строить»: самая старая динамика. Король Лир, «старое величество», сходит с ума и умирает. Гонерил и Риган уничтожены. Где-то за занавесом пятого акта находится мир, более стабильный и здравый, менее мелкий, менее убийственный и менее неблагородный.
Пешеходная подтема всегда на работе в одно и то же время. Как сказал Эмерсон: «Каждый герой, наконец, становится скучным».
Наполеон разыграл этот банф. На острове Святой Елены его молодой адъютант, генерал Гаспар Горго, вел дневник:
21 октября [1815]: Я гуляю с Императором в саду, и мы обсуждаем женщин. Он утверждает, что молодой человек не должен бежать за ними ....
5 ноября . Великий маршал [Месяцолон] рассержен, потому что Император сказал ему, что он всего лишь няня ...
14 января [1817]: Ужин с банальным разговором о превосходстве полных над худыми женщинами ...
15 января: [Он] ищет имена женщин своего двора. Он тронут. «Ах! Это была прекрасная империя. Под моим управлением находилось 83 миллиона человек - более половины населения Европы ». Чтобы скрыть свои эмоции, Император поет.
Разочаровывающий крупный план - друг разоблачителя - может вызвать веселье за счет величия. Бедный Наполеон: в фильме 1970 года « Ватерлоо» Род Стейгер сыграл императора, дав потрясающее представление в стиле тлеющего санпаку Стайгера в Актерской студии актеров. В пылу битвы при Ватерлоо Наполеон Штейгера, раздраженный на маршала Нея, кричит: «Разве я не могу покинуть поле битвы ни на минуту ?!»
В свои процветающие дни перед телевидением в журнале «Генри Люс Тайм » был ассортимент линз для героев и скучных людей, а также прозаический стиль, который мог превратиться в резонансную пародию на Гомера. Часто формула обложки - ритуализированная менее оригинальными редакторами журнала - требовала параграфа, посвященного тому, что на обложке было на завтрак. Например, в статье 1936 года, посвященной кандидату в президенты от республиканцев Альфу Лэндону из Канзаса, было сказано: «В 7:20 он был на завтраке с апельсиновым соком, фруктами, яичницей и почками, тостами и кофе ... хриплый, широкоплечий Губернатор Лэндон ... широкая улыбка сморщила его простое, дружелюбное лицо. "Самое лучшее для всех вас". "Такие подробности крупным планом (называемые" биоптеры ", " биография и личность ") в запросах, которые редакторы в Нью-Йорке, отправленные корреспондентам на местах), должны были дать читателю неожиданное ощущение того, каким был этот человек, и, что не менее важно, произвести впечатление на читателя интимным доступом журнала к влиятельным.
У Техники Завтрака были свои предшественники - от Плутарха и Светония до Эльберта Хаббарда, писателя и пропагандиста начала 20-го века для состоятельных американских изобретателей и магнатов, известного как автор « Послания Гарсии» . Теодор Уайт, который был корреспондентом Люси Чангкинг во время Второй мировой войны и, намного позже, автором книги « Создание президента», использовал технику «крупным планом и завтрак» в своих зарисовках кандидатов и президентов; Уайт занимался органными тонами Большой Истории. Но к 1972 году ему стало немного стыдно изнутри. Он вспомнил, как репортеры, в том числе и они, врывались в гостиничный номер Джорджа Макговерна и выходили из него после того, как Макговерн получил кандидатуру президента от демократов. «Все мы наблюдаем за ним, сумасшедшим ведем записи, собираем все мелкие детали. Я думаю, что изобрел этот способ сообщения и о чем я теперь искренне сожалею», - сказал Уайт Тимоти Краузу для книги Кроуза « Мальчики в автобусе»., "Кто дает аф - если у парня было молоко и Тотал на завтрак?"
Изречение Эмерсона о том, что герои становятся скучными, распространяется не только на людей, но и на литературные стили, подолы, почти на все тренды и новинки, даже на большие идеи. Марксизм и коммунизм, героические и обнадеживающие для многих на Западе после Октябрьской революции, стали чем-то более зловещим, чем зануда - сталинский ужас. Почти одновременно, в 1920-х годах, процветающий американский бизнес казался многим героем («Бизнес Америки - это бизнес», как сказал Кэлвин Кулидж), но многим он казался злодейским обманщиком и предателем после краха 1929 года. Герберт Гувер в ноябре 1929 года он не слишком понял, что «всякое недоверие к экономическому будущему или основной силе бизнеса в Соединенных Штатах глупо». Франклин Рузвельт в середине 30-х выговорил «экономических роялистов» или «Бурбонов», а затем пошутил, что его критики думали, что он «ужинал на завтраке на гриле миллионера». («Я чрезвычайно кроткий человек, - добавил он, - приверженец омлета».)
Затем пришел еще один флип, новый объектив. После Перл-Харбора вновь и срочно мобилизованные американские бизнесмены и промышленность снова стали героями, производя огромное количество орудий, бомб, самолетов, кораблей, танков и других материальных средств, которые, в конце концов, стали главной причиной победы союзников во Второй мировой войне., Именно в этом контексте президент General Motors Чарльз Уилсон, который стал министром обороны Эйзенхауэра, заявил в 1953 году: «В течение многих лет я думал, что то, что хорошо для страны, хорошо и для General Motors, и наоборот». Заявление будет вырвано из его послевоенного контекста и названо нео-бэббитри, девизом потребительской / корпоративной эпохи Эйзенхауэра.
1960-е годы, которые многим казались хаотично героическими - бодрящий идеалистический поворот поколений, последовавший за 50-ми годами, когда молодые молчали, а старшие власти были пожилыми, - казалось, ко времени администрации Рейгана и после этого уныло Гнетущий коллективный демографический нарциссизм, который слишком долго израсходовал слишком много американского кислорода.
Каждый возраст глотает предыдущий в то же самое время, когда он отвергает его. Новая эра основывается на старой. Работа не является прерывистой, а токи передачи сложны.
Дафф Купер читал выдающихся викторианцев в окопах во Франции, служа лейтенантом гренадерской гвардии. Ему скорее понравилась книга, но в то же время она показалась ему слишком сложной.
«Вы не можете писать о человеке хорошо, если у вас нет к нему симпатии или привязанности», - писал Купер, будущий дипломат, писатель и первый лорд Адмиралтейства своей будущей жене леди Диане Мэннерс. И Стрейчи, писал он, казалось, «не прилагает усилий, чтобы понять [викторианцев] или представить, что они чувствовали и какова была их точка зрения, а просто показать, насколько забавными кажутся их религиозные переживания, видимые с отстраненной и нерелигиозной точки зрения». .... Вы скорее чувствуете, что он насмехается над ним, что он как ловкий, сообразительный человек, наблюдающий за юбилейной процессией. "
Иконоборчество одного века - это потроха у другого. Кольбер и Стюарт жестоко издевались над администрацией Джорджа Буша-младшего, когда они первыми развивали форму подрывной псевдожурналистики. Теперь, когда контекст Джорджа Буша исчез в прошлом, и власть принадлежит Бараку Обаме - предположительно, более подходящей фигуре для Колберта и Стюарта - откуда они берут свой талант Стрейчи для разрушения? Они тоже перебирают линзы, чтобы найти подходящую новую оптику. Вопреки Даффу Куперу, им может быть трудно быть смешным с человеком, к которому у них слишком много симпатий. Когда издевательство растворяется в благочестии, ум зрителя блуждает или направляется к двери.
Что сейчас кажется другим, так это то, что глобальные технологии усиливают исторический эффект Доплера - темпы событий, по-видимому, увеличиваются по мере нашего продвижения в будущее. Мы привыкли думать об истории как о последовательности - например, викторианской эпохе, которая кратковременно впадает в эдвардианство, а затем рушится в порогах Модерна, периоды сегментированы и различимы.
Но в начале 21-го века интенсивно глобализированный мир становится нетерпимым к последовательности. Его дилеммы становятся срочными и параллельными, и, кажется, допплер до самого высокого уровня. Гегелевский тезис и антитезис обсуждают друг друга. Политический призыв и ответ становятся одновременными, что подразумевает конец диалога. Думайте о глобальном финансовом кризисе как о коронарной фибрилляции: электрические цепи финансового сердца мира, замысловато секвенированные предсердия и желудочки обмена теряют свой ритм; сердце сходит с ума, оно перестает качать.
В октябре 1962 года, во время кубинского ракетного кризиса, миллионы думали, что мир может закончиться. В Первой конгрегационной церкви в Вашингтоне, округ Колумбия, радикальный журналист И.Ф. Стоун сказал аудитории борцов за мир: «Шесть тысяч лет истории человечества подходит к концу. Не ожидайте, что завтра будете живы». Никита Хрущев думал в том же духе, когда он задумчиво сказал: «Все живое хочет жить». И все же иногда может быть что-то вроде тщеславия в примечании «все изменилось, совершенно изменилось», которое прозвучал у Й.Б. Йейтса после восстания на Пасху в Ирландии в 1916 году.
Большая история не может стать чем-то большим, чем Конец Света, который является самым драматичным и, в своем роде, наименее творческим из повествовательных линий. В любом случае, апокалипсис в человеческом опыте оказался душевным состоянием с неотложными, но меняющимися координатами в реальности: это, безусловно, означает, что мы пересекли границу и направились в чужую страну. Мы занимаемся этим с самого начала. Но саму историю - до сих пор - было нелегко убить.
Лэнс Морроу пишет биографию соучредителя журнала Time Генри Люса.




 Томас Арнольд (1795-1892) беседует с учеником школы регби. (ВОЗРАСТ Фотосток)
Томас Арнольд (1795-1892) беседует с учеником школы регби. (ВОЗРАСТ Фотосток)  Литтон Стрейчи выбрал момент, чтобы заняться спортом с Томасом Арнольдом и другими викторианцами. (Галерея Тейт, Лондон / Art Resource, NY)
Литтон Стрейчи выбрал момент, чтобы заняться спортом с Томасом Арнольдом и другими викторианцами. (Галерея Тейт, Лондон / Art Resource, NY)  Джон Стюарт и другие сатирики должны договориться о переходе в Белом доме. (Ассошиэйтед Пресс)
Джон Стюарт и другие сатирики должны договориться о переходе в Белом доме. (Ассошиэйтед Пресс)  Если в качестве справочника используется дневник помощника, хранящийся на острове Святой Елены, то аксиома Эмерсона о героях и занудах включает Наполеона (изобразил Род Штайгер в Ватерлоо ). (Бетманн / Корбис)
Если в качестве справочника используется дневник помощника, хранящийся на острове Святой Елены, то аксиома Эмерсона о героях и занудах включает Наполеона (изобразил Род Штайгер в Ватерлоо ). (Бетманн / Корбис)