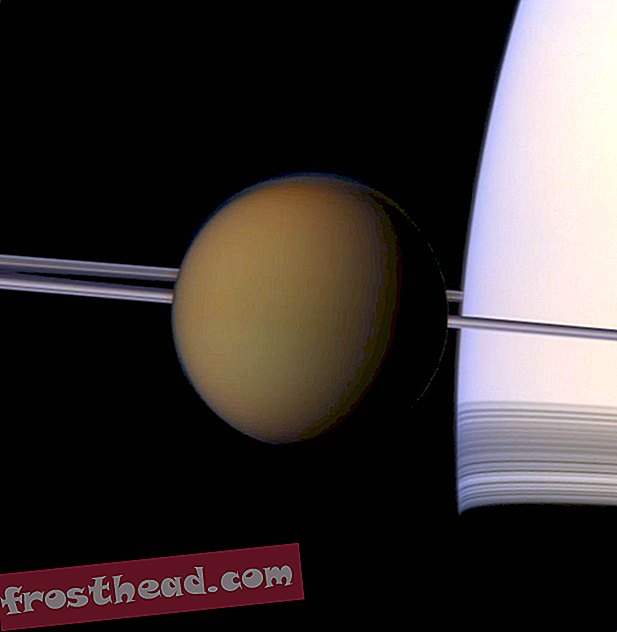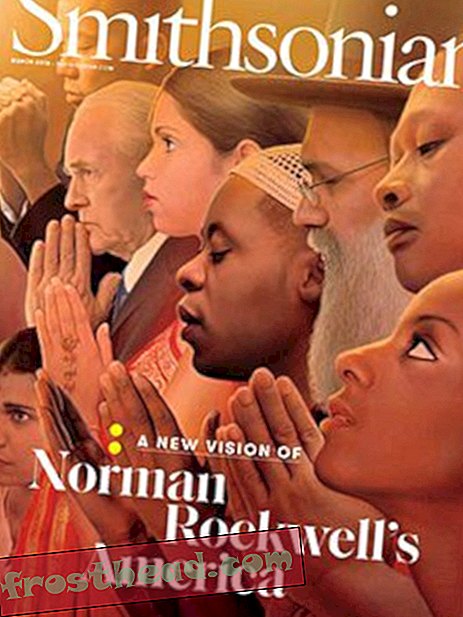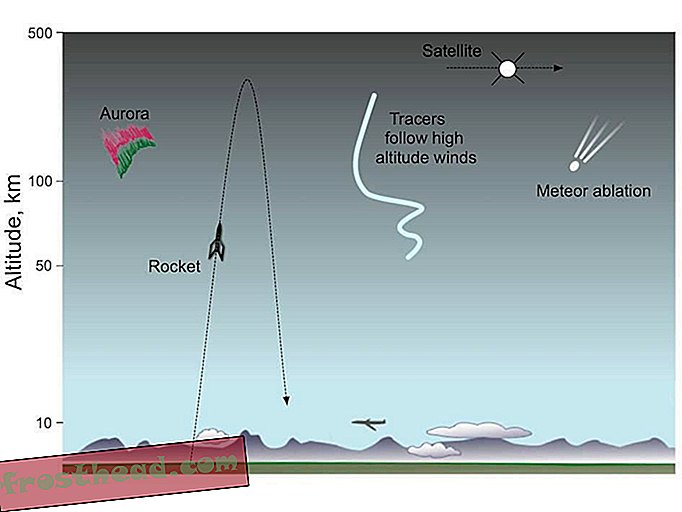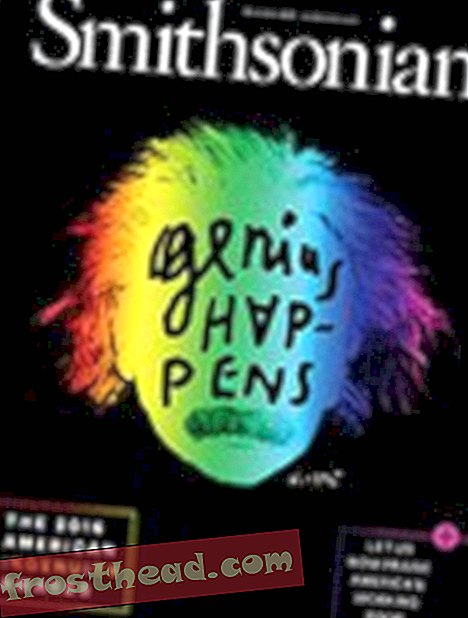Примерно в 1330 году поэт и буддийский монах по имени Кенко написал « Очерки в безделье» (Tsurezuregusa) - эксцентричное, спокойное и драгоценное собрание его мыслей о жизни, смерти, погоде, манерах, эстетике, природе, питье, разговорных занозах, сексе, Дизайн дома, прелести занижения и несовершенства.
Связанный контент
- Быть или не быть Шекспиром
Для монаха Кенко был удивительно мирским; для бывшего императорского придворного он был необычайно духовным. Он был фаталистом и чудаком. Он сформулировал японскую эстетику красоты как нечто непостоянное - эстетику, которая приобретает почти невыносимое значение в моменты, когда землетрясение и цунами могут разрушить существующие механизмы.
Кенко мечтал о золотом веке японского Камелота, когда все становилось и грациозно. Он беспокоился, что «не осталось никого, кто бы знал, как правильно повесить колчан перед домом человека, опозоренного его величеством». Он даже сожалел о том, что никто не помнил правильную форму пыточной стойки или подходящий способ прикрепить пленник к нему. Он сказал, что преднамеренная жестокость является худшим из человеческих преступлений. Он считал, что «искусство управления страной основано на бережливости».
Один или два из его эссе являются чисто информационными (не сказать, странно). Одно из моих любимых сочинений - это эссе 49, которое гласит: «Никогда не кладите новые рога оленя себе в нос и не нюхайте их. У них есть маленькие насекомые, которые лезут в нос и пожирают мозг ».
Моряк в бурных морях может схватиться за поручень и сосредоточиться на отдаленном объекте, чтобы успокоиться и избежать морской болезни. Я читаю эссе Кенко по той же причине.
Кенко жил на другой планете - планете Земля в 14 веке. Но если вы продолжите движение по вертикали с 14-го века до 21-го, вы почувствуете временную гибкость, когда его намеки на вырождение и упадок резонируют с нашими собственными. Своего рода сонар: от Кенко наши собственные мысли приходят в норму с отчужденным обаянием и смехом признания.
Кенко был поэтом и придворным в Киото при дворе императора Го-Дайго. Это было время бурных перемен. Го-Дайго был бы изгнан и изгнан режимом сёгунов Асикага. Кенко удалился в коттедж, где он жил и написал 243 эссе о Цурезурегуса . Считалось, что он почистил свои мысли на клочках бумаги и приклеил их к стенам коттеджа, и что после его смерти его друг, поэт и генерал Имагава Риошун удалил клочки и расположил их в том порядке, в котором они перешли в японскую литературу., (История обоев была позже подвергнута сомнению, но в любом случае очерки выжили.)
Кенко был современником Данте, еще одного публичного человека и придворного, который жил в изгнании в нестабильные времена. Их умы, в некотором смысле, были обособленными. Божественная Комедия созерцала вечное; Очерки в праздности размышляли о мимолетных. Данте писал с красотой, прозрачностью и ужасающим великолепием, Кенко с бесцеремонным очарованием. Они говорили о конце света в противоположных терминах: итальянский поэт, во всяком случае, время от времени считал себя бюрократом страданий, кодификации грехов и разработки ужасных наказаний. Кенко, несмотря на свое плачевное отношение к старомодному стеллажу, писал в основном о единобожиях и манерах, и его вселенная властвовал в буддийском законе неопределенности. Божественная комедия является одним из памятников мировой литературы. Очерки о праздности лапидарные, краткие и мало известны за пределами Японии.
Кенко писал: «Они говорят о вырожденной, последней фазе мира, но как великолепна древняя атмосфера, не загрязненная миром, которая до сих пор преобладает в стенах дворца». Как заметил переводчик Кенко Дональд Кин, сквозь эссе «Убеждение в том, что мир неуклонно ухудшается». Отрадно думать, что люди ожидали конца света на протяжении стольких веков. Такой постоянный пессимизм почти вселяет надежду.
Также утешительно знать, что Кенко был матросом у перил, устремив взгляд на воду: «Самое приятное из всех отвлечений - сидеть в одиночестве под лампой, книга, раскинувшаяся перед вами, и дружить с люди из далекого прошлого, которых ты никогда не знал ». Кенко похож на друга, который появляется после долгой разлуки и возобновляет твой разговор, как будто он покинул комнату на мгновение.
Кенко очарователен, беззаботен, никогда не угрюм. Он почти слишком умен, чтобы быть мрачным или, во всяком случае, слишком большим буддистом. Он пишет в одном из эссе: «Один человек сказал:« Разумеется, ничто не так восхитительно, как луна », но другой человек снова присоединился:« Роса движет мной еще больше ». Как забавно, что они должны были спорить с этим ».
Он лелеял сомнительное: «Самое ценное в жизни - это неопределенность». Он предложил цивилизованную эстетику: «Оставление чего-то неполного делает его интересным и дает ощущение, что есть место для роста». Совершенство банально. Лучшая асимметрия и неравномерность.
Он подчеркнул важность начинаний и окончаний, а не просто вульгарной полноты или успеха: «Должны ли мы смотреть на вишню только в полном цвету, а луну - только тогда, когда она безоблачная? Стремиться к луне, глядя на дождь, опускать жалюзи и не знать о прохождении весны - они еще глубже двигаются. Ветви, которые скоро распустятся, или сады, усыпанные увядшими цветами, достойны нашего восхищения ».
В то время, когда цветы увядают, когда активы истощаются и просто вульгарная полнота может предложить что-то столь же бесперспективное, как портфель, управляемый Бернардом Мэдоффом, глаз может оценить луну, затененную облаками.
О домах Кенко говорит: «Характер человека, как правило, может быть известен по месту, где он живет». Например: «Дом, который множество рабочих мастеров полировали со всей тщательностью, где странная и редкая китайская и японская обстановка отображаются, и даже травы и деревья в саду были натренированы неестественно, смотреть на них некрасиво и очень удручающе. Дом должен выглядеть живым, скромным. Так много для МакМансион.
Во времена травматических перемен некоторые писатели, художники или композиторы могут уйти из мира, чтобы составить свою собственную вселенную - остров Просперо.
Именно так Монтень в разгар католическо-протестантских войн 16-го века во Франции написал свои « Очерки», которые изменили литературу. После достойной карьеры в качестве придворного при Карле IX, в качестве члена парламента Бордо, в качестве умеренного друга Генри III и Генриха Наваррского во время кровопролитных религиозных войн, Монтень покинул круглую башню в своем семейном поместье в Бордо. Он объявил: «В год Христа 1571, в возрасте тридцати восьми лет, в последний день февраля, его день рождения, Мишель де Монтень, давно устал от служения в суде и на общественных работах, хотя все еще полностью, на пенсии у ленивых девственниц, где в покое и свободе от всех забот он потратит то немногое, что осталось от его жизни, а теперь более половины его истекло ... он посвятил [это сладкое наследственное отступление] своей свободе, спокойствие и отдых. »
Древесина над дверным проемом была написана так: «Que sais-je?» - «Что я знаю?» - главный вопрос эпохи Возрождения и Просвещения. Итак, окруженный своей библиотекой из 1500 книг, он начал писать.
Монтень следовал методу композиции, очень похожему на методику Кенко. На японском языке это называется zuihitsu, или «следуйте за кистью», то есть записывайте мысли, когда они приходят к вам. Это может привести к замечательным результатам, если вы Кенко или Монтень.
Я считаю, что оба стабилизируют присутствие. Чувство баланса человека зависит от внутреннего уха; именно внутреннему уху говорят такие писатели. Иногда я получаю эффект, окунувшись в рассказ Берти Вустера о П. Г. Вудхаусе, который написал такие замечательные предложения, как это описание торжественного молодого священника: «У него было лицо овцы с тайной печалью». Вудхауз тоже в конечном итоге будет жить в изгнании (как географическом, так и психологическом), в коттедже на Лонг-Айленде, вдали от его родной Англии. Он сочинил Берти Вустер Неверленд - Оз уродов. Волшебник, более или менее, был дворецким Дживсом.
Вудхаус, Кенко, Данте и Монтень составляют невероятный квартет, смешно разнообразный. Они приходят как дружественные инопланетяне, чтобы утешить внутреннее ухо и освободить сильное в наши дни чувство изолированности на земле, которая сама по себе кажется все более чуждой, сбивающей с толку и недружественной.
Это форма тщеславия, чтобы представить, что вы живете в худшие времена - всегда было хуже. В плохие времена и сильные моря естественный страх состоит в том, что все станет хуже, и никогда не станет лучше. Это толчок западному, инстинктивно прогрессивному уму, обученному думать об истории как о восходящей - как фондовый рынок, как цены на жилье - находить тенденции, движущиеся в другом направлении.
Тем не менее, я помню, как однажды отправлялся в Киото, на место изгнания Кенко, и после этого я сел на сверхскоростной пассажирский экспресс в Хиросиму. Там был мемориальный парк, мемориальный музей с ужасными записями о том, что произошло в августе 1945 года - сам ад - и обугленный скелет купола префектуры города, сохранившийся как напоминание. Но в остальном ... шумный, процветающий город с тысячей неоновых вывесок, мигающих знакомыми корпоративными логотипами. И когда вы пересекли оживленный перекресток, сигнал «Прогулка» сыграл маленькую звенящую японскую версию «Comin 'Through the Rye».
Те, кто говорят, что мир попал в ад, могут быть правы. Также верно, что ад, в отличие от Данте, может быть временным.
Данте, Кенко и Монтень все писали как люди, изгнанные из власти - из присутствия власти. Но власть тоже носит временный характер.
Каждый момент корректирует координаты надежды и отчаяния - некоторые изменения более жестоки, чем другие. Сейчас мы живем в проверке модели «пятен и скачков» Бертрана Рассела. В 1931 году философ написал: «Я думаю, что вселенная - это все точки и скачки, без единства, без непрерывности, без согласованности, упорядоченности или чего-либо другого». свойства, которые управляют любовью ... это состоит из событий, коротких, маленьких и случайных. Порядок, единство и преемственность являются человеческими изобретениями, так же как и каталоги и энциклопедии ».
Кенко в одном из своих сочинений писал: «Ничто так не сбивает человека с пути, как сексуальное желание. Святой человек Куме потерял свои магические силы, заметив белизну ног девушки, которая стирала одежду. Это вполне понятно, если учесть, что сияющая полнота ее рук, ног и плоти ничего не должна была выдумать ».
Это тоже посылает странное эхо назад в наше время. Волшебная сила, которую потерял святой, была его способность летать. Наш мир восстановил магию, и это дало нам Чарльза Линдберга, Хиросиму, глобальное путешествие 9/11 и нигерийского террориста, который, приехав в Детройт на Рождество, поджег свои трусы.
Мы окружены магией, немного добра, немного зла, а некоторые одновременно - избыток магии, путаница в ней. Одинокий Кенко смахнул свои капризные, резкие мысли на клочки бумаги, которые пережили века только благодаря удаче; с таким же успехом они могли бы сгнить на стенах или уйти с мусором. Но взгляните на нашу магию сейчас: вы можете использовать Google Kenko, и если у вас есть Kindle, Nook, iPad или какой-либо другой электронный ридер, вы можете собрать все Kenko, Dante или Montaigne в электронном виде на тонком плоском экране, с которого может также исчезнуть при прикосновении, в наносекунду.
Вселенная Trompe l'oeil : создание и не создание - пуф! Драгоценные писатели чудесным образом распространяются через Интернет, вы извлекаете их из воздуха. И они могут исчезнуть быстрее, чем исчезающие цветы Кенко или окутанные луны. Вселенная не твердая вещь.
Письмо - мы всегда думали - это уединенный и даже скрытый труд. Конечно, великий писатель не должен быть отшельником. (Шекспира не было.) Я задавался вопросом, был бы Монтень, или Кенко, или (Боже, помоги нам), Данте, был бы на Фейсбуке или Твиттере, болтал и переписывался в общительной солидарности новых социальных форм. Есть ли такие вещи, как изгнание, отступление или одиночество во вселенной Skype, глобального улья? Улучшает ли новая сеть качество мышления и письма? Это, несомненно, меняет процесс, но как и сколько? Мы еще не знаем.
Иногда, как ни странно, легче писать в шумной комнате, чем в тишине и одиночестве; какое-то время мне нравилось писать, когда я ехал вверх и вниз по Манхэттену по IRT в Лексингтон-авеню - грохот машин и визг рельсов улучшали мою концентрацию, и мне нравилось иметь компанию, когда я рисовал. Я был очарован и странно успокоен протоколом метро, который требует, чтобы лица всех этих разнообразных наездников - азиатов, африканцев, латиноамериканцев, европейцев - на протяжении поездки были бесстрастными и нечитаемыми: никакого зрительного контакта, идеальные маски.
Книги Лэнса Морроу включают коллекцию эссе « Вторые наброски истории» .