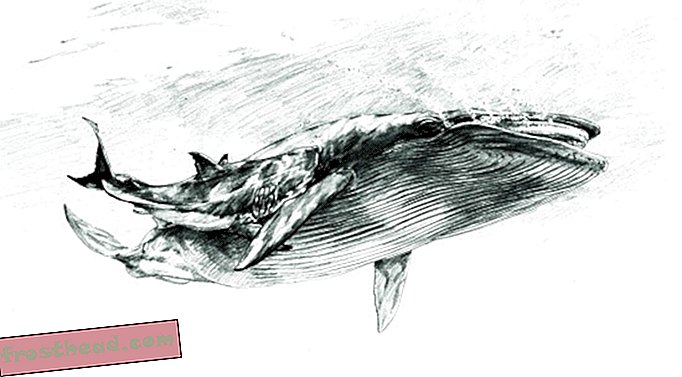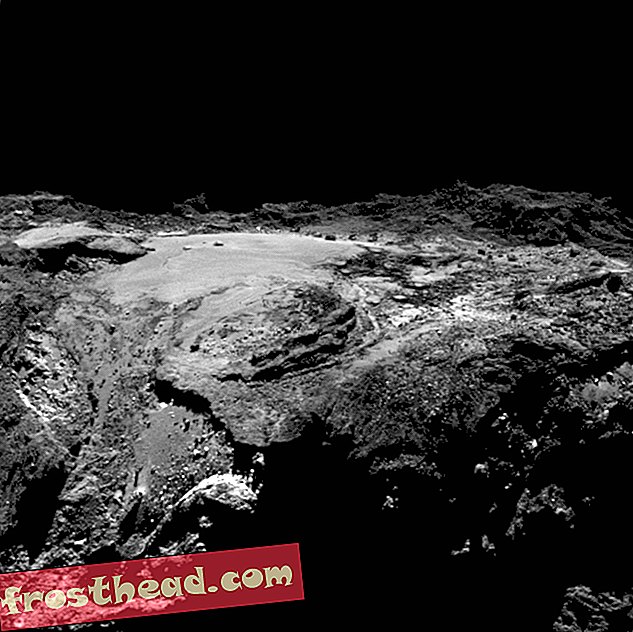Здоровье состоит из тех же болезней, что и у соседей », - как-то заметил английский писатель Квентин Крисп. Он был прав. И то, что верно для индивида, похоже, верно и для общества в целом. «Паразитный стресс», как его называют ученые, долгое время был фактором в человеческих отношениях, усиливая страх и ненависть других людей.
Связанный контент
- Что «Легенда о Сонной Лощине» говорит нам о заразе, страхе и эпидемиях
Некоторое время казалось, что мы преодолели все это. Но, как напоминает нам Эбола, фундаментальные проблемы остаются. Больше не ограничиваясь отдаленными сельскими районами, Эбола превратилась в городскую болезнь и неконтролируемо распространилась в некоторых странах Западной Африки из-за отсутствия эффективного здравоохранения.
Эбола также возродила викторианский образ Африки как темного континента, изобилующего болезнями. И страх Эболы больше не ограничивается Западом. Действительно, это имеет тенденцию быть более очевидным во всей Азии, чем среди американцев и европейцев. В августе Korean Air прекратила свой единственный прямой рейс в Африку из-за опасений, связанных с вирусом Эбола, не говоря уже о том, что пункт назначения находился далеко не в пострадавшем регионе континента, а в тысячах миль к востоку в Найроби. Северная Корея также недавно приостановила визиты всех иностранных гостей, независимо от их происхождения. Тревога по поводу лихорадки Эбола особенно остра в Азии, поскольку эпидемии, бедность и голод находятся в памяти людей.
Корни этого менталитета лежат глубоко в нашей истории. После того, как люди освоили основы сельского хозяйства 12 000 лет назад, они начали одомашнивать большее разнообразие животных и вступили в контакт с более широким спектром инфекций. Но это происходило в разное время в разных местах, и возникший дисбаланс породил представление о том, что некоторые места были более опасными, чем другие.
Таким образом, когда болезнь, которую мы называем сифилисом, была впервые обнаружена в Европе в конце 1490-х годов, она была названа неаполитанской или французской болезнью, в зависимости от того, где кто-то жил. И когда та же болезнь пришла в Индию с португальскими моряками, ее назвали firangi roga, или болезнь франков (термин, синонимичный с «европейским»). Грипп, который распространился по всему миру с 1889 по 90 годы, был назван «русским гриппом» (без веской причины), и то же самое относится и к «испанскому гриппу» с 1918 по 19 год. Можно с уверенностью предположить, что их не называли имена в россии или испании.
Мы все еще склонны думать об эпидемических болезнях, как о пришедших откуда-то, привезенных к нашему порогу посторонними. Понятия инфекции впервые возникли в религиозных рамках - мор стал ассоциироваться с мстительными божествами, которые стремились наказать преступников или неверующих. В европейских эпидемиях 1347–51 годов («Черная смерть») евреев делали козлами отпущения и убивали в значительных количествах.
Но Черная смерть начала процесс, благодаря которому болезнь постепенно, хотя и частично, секуляризировалась. Почти половина населения умерла от чумы, трудовые ресурсы были драгоценными, и многие правители пытались сохранить их, а также уменьшить беспорядки, которые обычно сопровождали эпидемию. Болезнь стала спусковым крючком для новых форм вмешательства и социального разделения. В штатах именно бедные стали подвергаться стигматизации как носители инфекции из-за их предположительно негигиеничных и нечестивых привычек.
Страны начали использовать обвинения в болезнях, чтобы очернить репутацию конкурирующих наций и нанести ущерб их торговле. Карантин и эмбарго стали другой формой войны, и ими манипулировали цинично, часто потворствуя народным предрассудкам. Угроза болезни часто использовалась, чтобы стигматизировать иммигрантов и содержать маргинализованные народы. Фактическое число иммигрантов, отвергнутых на инспекционных станциях, таких как остров Эллис, было относительно небольшим, но упор на скрининг некоторых меньшинств помог сформировать общественное восприятие. Во время эпидемии холеры в 1892 году президент Бенджамин Харрисон, как известно, называл иммигрантов «прямой угрозой общественному здоровью», выделяя русских евреев как особую опасность.
Но по мере того, как мировая экономика назревала, такие ограничения, как карантин и эмбарго, стали обременительными. Паническая реакция на возобновление чумы в 1890-х годах в таких городах, как Гонконг, Бомбей, Сидней и Сан-Франциско, привела к огромным разрушениям. Торговля зашла в тупик, и многие предприятия были разрушены. Великобритания и США предложили другой способ борьбы с болезнями, основанный не столько на остановках, сколько на надзоре и избирательном вмешательстве. В сочетании с санитарной реформой в крупнейших портах мира эти меры смогли остановить эпидемические заболевания, не нарушая торговлю. Международные санитарные соглашения в начале 1900-х годов стали редким примером сотрудничества в мире, разрушенном имперским и национальным соперничеством.
Нынешние усилия по сдерживанию Эболы, вероятно, увенчаются успехом, когда в пострадавшие страны будет направлено больше персонала и ресурсов. Но наша долгосрочная безопасность зависит от развития более надежной глобальной инфраструктуры здравоохранения, способной наносить упреждающие удары по возникающим инфекциям. Если в отношении реакции на Эболу есть одна положительная вещь, это то, что правительства отреагировали, хотя и с запозданием, на растущий общественный спрос. По-видимому, появляется более инклюзивная глобальная идентичность с существенно перекалиброванным пониманием наших трансграничных обязанностей в области здравоохранения. Воплощает ли это осознание и импровизированное управление кризисами длительный сдвиг в том, как мы справляемся с быстро распространяющимися инфекциями, остается открытым вопросом - вопросом жизни и смерти.
Марк Харрисон - профессор истории медицины и директор отдела истории медицины в Оксфордском университете. Он является автором книги «Заражение: как коммерция распространяет болезни» (Yale University Press, 2013). Он написал это для Общественной площади Сокало .